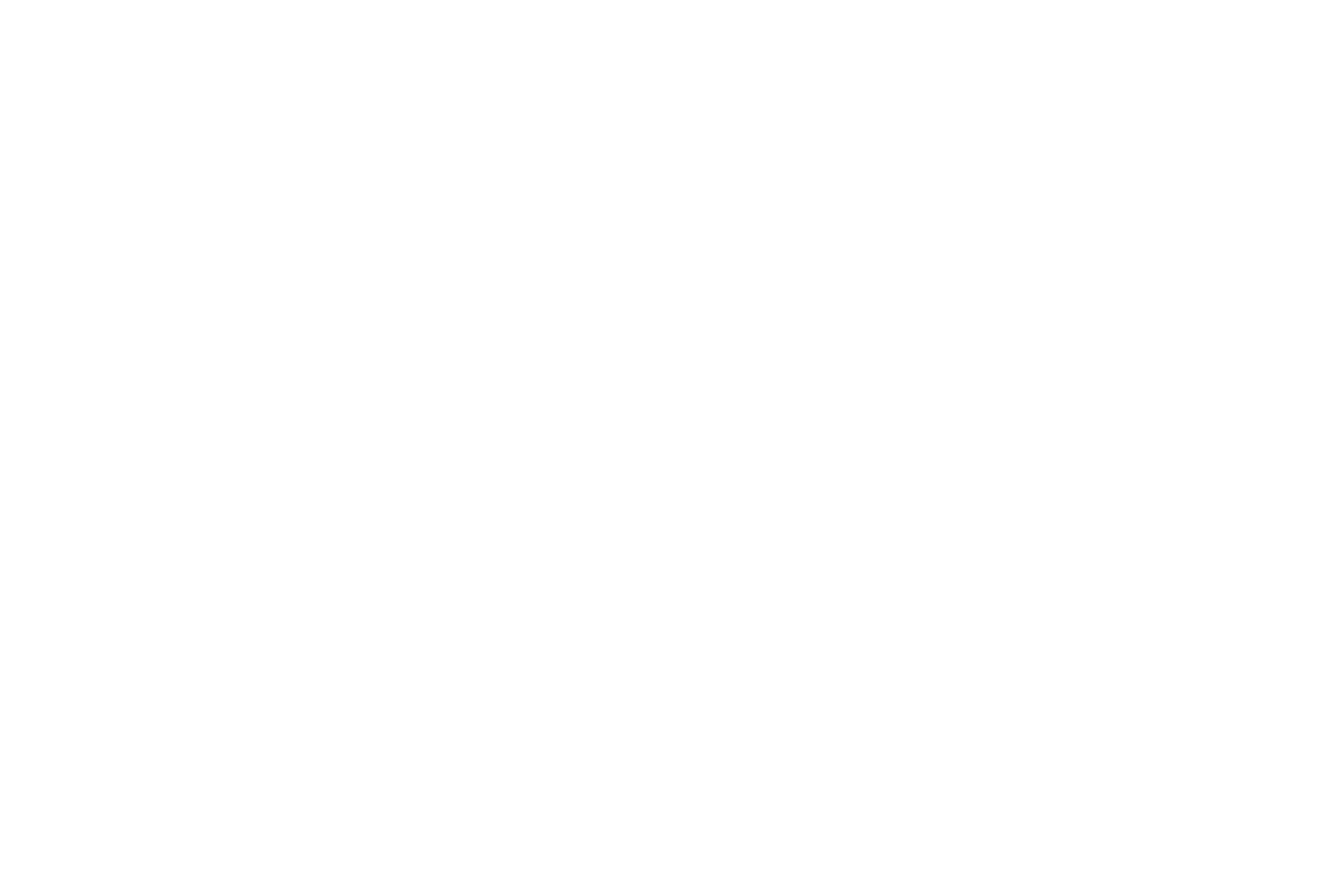«Я меняюсь вместе с детьми»
«Я меняюсь вместе с детьми»
Как преподаватель превратила парк в исследовательскую площадку
Галишева Марина Сергеевна родилась в поселке Заречный Белоярского района.
Училась в УрГУ на биологическом факультетете.
И уже 32 года преподает в здании отдела натуралистов, когда-то принадлежавшем
Дворцу пионеров.
Здесь она руководит детским творческим объединением «Зоолог- исследователь».
«Юные исследователи – моя личная тема»После окончания биологического факультета УрГУ Марина пришла в отдел натуралистов Свердловского Дворца пионеров, который сегодня называется Дворец «Одаренность и технологии». А в 2014 году Городской детский экологический центр, в котором она возглавляет отделение, приобрел самостоятельность. |
«У нас в центре 67 детских творческих объединений, – рассказывает Марина.
– Есть ботанические, зоологические, экологические направления. Наши детские творческие объединения занимаются изучением окружающей среды
и воздействия на нее городских условий.
У меня объединение «Зоолог – исследователь», а летом работает детская орнитологическая школа, или Школа летних исследований. Мы с ребятами занимаемся тем, что изучаем животных, птиц и то, как экосистема города влияет на них..
Первые пять лет мы изучали только птиц, но потом расширили круг своих исследований».
Орнитология по-прежнему остаётся основным направлением Школы, но кроме этого
здесь изучают и млекопитающих городских парков – полевок и белок, других животных.
Все это можно делать в Харитоновском парке, где расположено здание объединения.
«Исследовательская деятельность учащихся – моя личная тема, – говорит Марина Сергеевна. – Для меня важно научить ребенка проводить исследование как таковое,
использовать методологию, научный метод и применять все это в жизни».
Чудесное наследие СССР
Марина Галишева уверена: система дополнительного образования, которая досталась от Советского Союза, – это чудо из чудес. И нужно сделать все возможное, чтобы ее сохранить.
Ее основная ценность в избыточности. Это множество всевозможных бесплатных кружков,
в которые ребенок может ходить практически без ограничений, может переходить из одного кружка в другой без бумажной волокиты.
В результате он может получить представления о том, как танцуют, как поют, как занимаются экологией, орнитологией и так далее. В советское время каждый юный житель города обязательно чем-то занимался или во Дворце пионеров, или в районном дворовом клубе. И эта «избыточность», которую сегодня взрослые люди вспоминают с улыбкой,
многим дала путевку в жизнь.
Они выбрали профессию, занимаясь в том или ином кружке. Кто-то стал театральным деятелем, кто-то ученым, кто-то инженером.
«Если сейчас жестко сказать ребенку: «Ты выбираешь только один кружок на целый год
и должен в него ходить» – это убьет возможность выбора, возможность попробовать себя
в разных направлениях. А дело идет именно к этому», – сокрушается Марина Сергеевна.
Наставница убеждена: в Городском детском экологическом центре удивительная команда педагогов. Они видят идею дополнительного образования именно такой, какой она существовала в советское время. И работают с детьми так же, как работали тогда.
До сих пор здесь есть выходы на природу, экспедиционная деятельность и массовые мероприятия, которые объединяют не только обучающихся здесь ребят, но и детей со всего города.
От дальних экспедиций – к городским
От дальних экспедиций – к городским
Впервые в здание, где она будет преподавать столько лет, Марина Сергеевна пришла
с фотоаппаратом. Тогда это был еще Дворец пионеров.
«На окне была изморозь – красивейший рисунок, прямо перья птичьи. Я остановилась и стала фотографировать, – c улыбкой вспоминает она. – Меня попросили пофотографировать детей из ботанического кружка, в процессе я с ними познакомилась.
Еще в этот день я познакомилась с Револьдом Андреевичем Малышевым,
первым руководителем детской экостанции. Была зима, я училась на пятом курсе университета, мне еще надо было диплом защитить. А он мне сказал: «Зачем ждать? Давайте прямо через неделю и начинайте. Как раз попробуете и поймете, надо ли вам выходить в сентябре».
Я немножко посопротивлялась, но все же вышла на работу».
Первым же летом Марина Сергеевна съездила с ребятами в маленькую экспедицию
в деревню Хомутовка, где находился стационар института экологии. Там ученые изучали влияние завода на окружающую природу. Потом она с учениками стала постоянно ездить
в экспедиции – на неделю, иногда на две. И так десять лет подряд.
«Оформлять экспедицию было очень сложно, нужно было выполнять кучу каких-то предписаний, и в 2004 году я просто… сломалась, – рассказывает Марина Сергеевна.
– Я два месяца оформляла выезд на неделю! И поняла, что не могу столько времени на «бюрократию» тратить. И мы все переключились на работу в Харитоновском парке.
На самом деле, никуда не выезжая, тоже можно изучать птиц, причем порой даже более
эффективно».
Теперь наставница водит детей в городские экспедиции. Ребята приходят на полный день
и гуляют в парке, где имеют возможность увидеть даже больше животных, чем в лесу.
Ведь в лесу животное надо еще найти, что отнимает массу времени.
А в Харитоновском парке встречается разнообразная растительность, рядом – пруд, открытое пространство. И концентрация птиц здесь и по видовому разнообразию,
и по количеству даже выше, чем в лесу. Наставница говорит, что ей интересно работать
со всеми детьми. Но есть и те, кто особенно запомнился.
«Как-то Мария Михайловна Садыкова, преподаватель, работавший у нас,
когда я только пришла в центр, привела свою дочь Нину ко мне в ученики.
Я, признаться, была напугана. Папа Нины – кандидат биологических наук, мама – биолог, ездит в экспедиции. Я тогда думала: что я, начинающая, могу дать ребенку,
у которого родители – ученые? Мои тревоги были напрасны. Нина ходила в кружок
четыре года, потом четыре года ходил ее брат, Миша Садыков.
Они были в восторге, они ездили во все наши экспедиции. Нина выросла, долгое время работала в институте экологии, защитила кандидатскую диссертацию, пригласила меня
на ее защиту. И даже в личной карточке, которая висела в институте экологии, она указала, что один из этапов ее жизни – занятие в кружке.
Мне это было жутко приятно. Тем более что Нина стала лидером бердвотчеров.
Благодаря ей у нас в Екатеринбурге настоящее бердвотчерское движение, так же,
как в Москве или за рубежом. В Великобритании, например, каждый десятый занимается наблюдением за птицами. Мы скоро к этому тоже придем.
Я горжусь и Нининой деятельностью, и другими ребятами, которые у меня занимались,
а сегодня уже «оперились» и сами делятся своими знаниями».
Погрызанное бревно как предмет исследования
Погрызанное бревно как предмет исследования
«К примеру, был у меня мальчик, Марк Либерман. Как-то я дала ему бревно,
погрызанное бобром и сказала: «Исследуй!»
У него был шок: «Как я должен исследовать это бревно?!» Объяснила: нужно изучить внутренние и внешние связи бревна, кто его грыз раньше, какое солнышко на него светило,
что у него внутри, какие трещинки и сколько колец – это и есть исследование.
А если ты увидишь какое-то противоречие, то это самое интересное.
Умение находить проблему, ту, которую никто не видит, – это то, чему я учу детей.
И это приносит свои плоды.
Дети, которые в разное время окончили Школу летних исследований, сегодня учатся и в МГУ,
и в СПбГУ, и в НГУ.
Они умеют видеть проблемы, умеют ставить задачи, могут исследовать что угодно. Карандаш, книгу, бревно – что хотите. Мне кажется, эту способность необходимо формировать у детей.
В том числе и показывая им пример. Практически все педагоги нашей Школы занимаются научной деятельностью».
Сейчас юных орнитологов в Екатеринбурге знают многие – по их делам, по их акциям. Например, вот уже 10 лет они проводят акцию «Найди воробья» – синхронный учет воробьев в Харитоновском парке. Воробья в городе найти не сложно, сложно посчитать количество.
Марина Сергеевна с детьми наблюдает, как меняется состав птиц со временем.
Дело в том, что птицы, которые раньше жили в лесу, перебираются в город и гнездятся здесь.
«Каждый год мы открываем по новому для города виду, который загнездился, – поясняет наставница. – Мы определяем гнездовую территорию по пению, по гнездам.
И только воробьи плохо считаются – их же очень много.
Поэтому мы делим парк на тридцать участков, зовем к себе много людей,
даем им рекомендации. Синхронизируем время, и в течение десяти минут
они на своем участке должны посчитать воробьев и занести результат на карту.
Потом мы подводим итоги и смотрим, каким образом меняется численность воробьев.
Очень интересные вещи обнаруживаем».
Эти программы, по мнению Марины Галишевой, могут принести гигантскую пользу.
Проводя исследования в Харитоновском парке, она со своими воспитанниками обнаруживает различные явления.
Например, последние годы в парке непрерывно гибнут птенцы в дупле у синицы.
Большая синица откладывает тринадцать яиц, а из гнезда вылетают два слетка.
Наблюдения показали, что синица таскает в гнездо хлеб. Но она должна выкармливать своих птенцов насекомыми, ни в коем случае не хлебом – это может стать причиной
их гибели! Поэтому юные орнитологи настоятельно рекомендуют всем жителям города
ни в коем случае не кормить птиц с апреля по сентябрь.
Во-первых, страдает парк, потому что синицы, питаясь хлебом, не уничтожают вредителей. Во-вторых, страдают птенцы.
Другие исследования показали,что кошение травы в начале июня тотально губит садовых камышовок и всех птиц, гнездящихся на земле. Кошение травы нарушает природный баланс. На цветущих растениях кормятся мухи-журчалки и другие насекомые, которых ловят птицы.
Если скашивать траву, территория становится непригодной для жизни птиц.
Чем больше элементов в экосистеме города, тем она устойчивее.
Предотвращение экологических катастроф, мелких и глобальных, обеспечивает эту устойчивость. В этом направлении и работают дети под руководством Марины Галишевой.
«Мне кажется, дети изменились. Они не стали хуже или лучше, они стали
просто другие. Боже мой, первые пять лет поездок в экспедиции – это был
какой-то трэш.
Я непрерывно их мирила, какие-то разборки они там устраивали
между собой! Сейчас дети совершенно открыты, у них нет никакого барьера
в общении, например, мальчиков и девочек. Это так прекрасно!
Современных детей немного сложнее удовлетворить. Если раньше я на пленочном проекторе показывала им диафильм или слайды, это вызывало восторг!
Сейчас я показываю великолепные презентации,
но их нужно увлекать смыслами.
Рассказывать то, что будет для них новым, что будет для них оригинальным.
Для меня в этом тоже новые смыслы, и это позволяет
мне не выгорать.
Мне приходится меняться вместе с детьми», – рассказывает наставница.